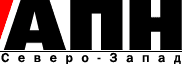 |
 |
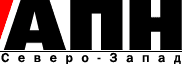 |
 |

Центром дискуссии о возможности для России покинуть круг безнадежно отставших мировых двоечников сегодня стало понятие модернизации. Причем модернизации именно экономической и, прежде всего, технологической. Перевооружения промышленного производства в таком ключе, чтобы отечественные телевизоры можно было таки смотреть, а на отечественных автомобилях – ездить без страха за свою жизнь. И чтоб при этом то и другое стоило дешевле китайских аналогов.
При всей мифологичности подобной задачи, отношение к ней чрезвычайно серьезно. Обостряя по максимуму, прокремлевские эксперты, прежде всего медведевского пула, заявляют, что “ускоренная модернизация – это вопрос выживания России”. Тезисы о необходимости ускоренного технологического рывка кочуют из президентских выступлений в аналитические статьи и обратно. При президенте РФ создана специальная комиссии по модернизации, и на ее проекты даже выделены какие-то деньги (10 млрд. рублей – если не ошибаюсь, это первые деньги, которые Медведеву разрешили самостоятельно потратить с момента “восшествия на престол”).
Интересно, что с точки готовности массового сознания к жизни в современном обществе “путинское” десятилетие стало воплощением де-модернизации. По результатам измерения социальной атмосферы Фондом “Общественное мнение” – десять лет назад россияне (в целом) не так уж сильно отличались от жителей других восточноевропейских стран. Сегодня же в массовом сознании правят патернализм, замкнутость, мифологичность, алогичность и инфантильность, происходит скатывание в омут традиционных, до-индустриальных стереотипов и штампов мышления, характерных для 16-18 веков. По уровень патернализма (т.е. склонности бездумно подчиняться и во всем полагаться на начальство) уверенно обогнали Китай, население которого движется в обратном направлении, все более осознавая меру индивидуальной свободы и ответственности.
Куда уж, казалось бы, с коллективными мозгами 18 века пытаться построить экономику двадцать первого – однако речь идет именно о повторении уроков того самого восемнадцатого века. О том, чтобы совершить переворот в укладе экономики, подобный тому, который удавался в российской истории дважды – при Петре Алексеевиче и Иосифе Виссарионовиче. Собственно, это отлично понимают все, кто говорит о модернизации, и те, кто слушает. Потому и обсуждается главным образом вопрос – возможен ли сегодня технологический рывок на людоедской основе, через кровь и плоть миллионов людей? Последний раз более или менее четко на этот счет высказался собственной персоной ДАМ: "Впечатляющие показатели двух величайших в истории страны модернизаций - петровской (имперской) и советской - оплачены разорением, унижением и уничтожением миллионов наших соотечественников - у нас же все, мол, будет по-другому - Инновационная экономика возникнет … как часть культуры, основанной на гуманистических ценностях".
На гуманистических, надо же. То есть, модернизация как бы с человеческим лицом. Вот только успешных примеров “гуманистической” модернизации в истории человечества не сыскать. Технологическое перевооружение экономики требует масштабных инвестиций. В классическом, многократно опробованном в разных углах земного шара (от Чили до Индонезии) и более-менее успешно работающем варианте, внутри страны необходимые средства формируются за счет перераспределения доходов в пользу сбережений, за счет искусственно заниженного уровне потребления, и максимально возможной экономии на чем только можно. Извне иностранные инвестиции привлекаются льготными условиями ведения бизнеса и дешевой рабочей силой. Заниженное потребление и дешевые рабочие руки – это бедность. Это главное условие и главное требование для старта “классической” модернизации – бедность большей части населения, причем бедность именно искусственная и несправедливая, когда люди за свой труд получают намного меньше, чем должны, а государство на социальные программы тратит намного меньше, чем могло бы.
Похоже, что элементы этого опыта в московских кабинетах изучили, и потому раздутые социальные обязательства т.н. государственного образования Российская Федерация готовятся к достаточно резкому схлопыванию. Наводят почему-то на такую мысль строки президентского опуса: “В речах российских политиков часто звучит напоминание о том, что согласно нашей Конституции Россия - социальное государство. Это действительно так, но не следует забывать и о том, что современное социальное государство - это не раздувшийся советский собес и не спецраспределитель с неба свалившихся благ. Жить не по средствам безнравственно, неразумно и опасно”.
Да, политик, реально ставящий на повестку дня программу ускоренной модернизации, по определению не может быть популярным. Модернизация – это принесение в жертву собственного рейтинга и социальной стабильности во имя будущего страны. Получается, что ускоренная модернизация с демократией совместима плохо. Да вообще никак не совместима, если уж начистоту. Недаром виднейший российский специалист по экономической модернизации - академик Владислав Иноземцев, в публичных выступлениях и личных беседах раз за разом подчеркивает простую мысль: практически все примеры успешной ускоренной модернизации в последние десятилетия – это примеры модернизации авторитарной. Т.е. вроде как получается, что для модернизации нужен России “просвещенный диктатор”, хоть вот ты тресни?
Вопрос можно поставить и по-другому - возможен ли такой вариант “авторитарной” стратегии модернизации в России? Да, возможен, но не везде. Т.е. и “просвещенный диктатор” нужен не всем. Главный подвох – это неравномерность уровня экономического развития, уровня жизни и образования населения в различных частях страны. Да, население у нас бедное и плохообразованное, но бедное оно чрезвычайно неравномерно. Если говорить о классической, или “мобилизационной” модернизации, то необходимым для нее условием является изначальная, естественная бедность, даже нищета, основной массы слабообразованного населения. Уже затем эта бедность превращается в искусственную – рост доходов населения искусственно сдерживается на уровне в 2-3 раза ниже темпов роста производства. Население не возмущается, поскольку оно об этом не знает, его усиленно пропагандистски обрабатывают, а уровень жизни потихоньку-потихоньку таки растет.
Стратегия “мобилизационной модернизации” может успешно работать на большей чести страны, но есть и другая часть, воплощением которой является Петербург. Современная структура экономики, не страдающая от сыръевой зависимости, высокообразованное население, тесно связанное с прилегающими территориями Евросоюза, постепенно усваивающее как европейские ценности, так и образ жизни. Все это дает однозначный ответ – “мобилизационная модернизация” Петербургу и большей части экономически развитых регионов попросту не нужна. Им нужна чуть большая открытость рынков, проникновение иностранных производителей и рост конкуренции для преодоления сохранившейся еще технической отсталости. Плюс чуть большая политическая открытость, модернизация социальной сферы и рост конкуренции для преодоления отсталости социальной и госуправленческой. Получается, что “всеобщая мобилизация на борьбу с отсталостью” не просто не станет всеобщей.
Линия водораздела между наиболее развитыми регионами и “всеми остальными” пройдет по всему политическому фронту, включая его аппаратно-невидимую часть. В условиях минимальной свободы инвестиций они концентрируются в естественных инфраструктурных центрах, каковыми являются крупнейшие мегаполисы и их окружения, а в условиях мобилизационной модернизации государственная стратегия “выравнивания” потребует ускоренного развития отсталых территорий (в первую очередь – Северного Кавказа). За счет не просто торможения – полной остановки развития и частичной деградации экономики и социальной среды Санкт-Петербурга, Татарстана и других. Последует соответствующая реакция населения и уцелевших региональных элит… Логическая ловушка в том, что, по мнению кремлевских аналитиков, России грозит крах без модернизации, а у нас получается – что и в случае попытки авторитарной модернизации - исход тот же. Куда ни кинь...
Попытка “сделать это снова” - повторить петровско-сталинский рывок и еще раз модернизировать Россию - станет одним из факторов, которые приблизят ее и без того недалекий конец. После чего уцелевшие “модернизаторы” (если им удастся сохранить устойчивую государственную систему) продолжат “большой шаг вперед” на оставшейся под их властью части суши и в течение двадцати-тридцати лет, смогут добиться серьезных экономических успехов, которые несколько сократят отставание от новых государств, возникших по границам на старте мобилизационной модернизации. Искренне пожелаем им успеха.
Собственно же этим государствам предстоит повторять урок “Новой Европы” – Польши, Прибалтики и других стран, выходивших на мировую арену со сходных стартовых позиций – оставшейся от советско-российской эпохи среднеразвитой промышленностью и деградирующей социальной сферой. Этим государствам, и нам здесь в Петербурге, так или иначе предстоит пройти путь, которым многие ходили до нас. Провести реформу госуправления. Сконструировать новую европейскую идентичность. Открыть товарные рынки и границы. Переформатировать армию. Запустить единственно необходимую “социальную модернизацию” – которая должна радикально сократить роль государства в социальной сфере и при этом повысить доступность и качество социальных услуг для населения. У нас есть моноэтническое и высокообразованное население, выгодное географическое расположение, естественное экономическое единство, соседство со все еще огромным и непредсказуемым, но вполне выгодным в экономическом плане восточным соседом. Мы - жители Финляндии и Прибалтики - уже проходили через это. Мы - жители Петербурга и нескольких других регионов - сделаем это снова.
Иван Федоренко
Мнение автора не совпадает с мнением редакции